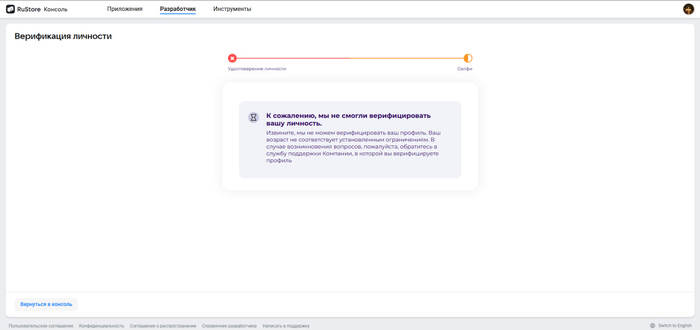Почему профсоюзы не поддержали новый закон о платформенной экономике

В июле Госдума приняла закон о платформенной экономике. Напомним, он подменяет по факту трудовые отношения в “своей” сфере отношениями гражданско-правового характера, что ставит работников в потенциально уязвимое положение. О нюансах принятого закона, о ходе его обсуждения и о том, что ждет платформенно занятых впереди, — в интервью «Солидарности» с профсоюзным экспертом, зампредом Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Ниной КУЗЬМИНОЙ (на фото).
“НА ПОГОВОРИТЬ”
— Нина Николаевна, почему законопроект о платформенной экономике не рассматривался в Российской трехсторонней комиссии?
— На самом деле в рамках РТК он был обсужден даже дважды: на совместном заседании трех рабочих групп и на совещании координаторов сторон. А в первый раз он поступил в комиссию еще в начале апреля, но в формате “я из лесу вышел и тут же зашел”: накануне рассмотрения его отозвали из-за разногласий внутри правительства. Замечу, что Минэкономразвития — это самый злостный нарушитель исполнительской дисциплины в РТК. Оно игнорирует принципы социального партнерства в силу либо ангажированности, либо неосведомленности о стратегической роли соцпартнерства в развитии страны. В итоге мы услышали от них, что законопроект сначала будет согласован в правительстве, а потом направлен в РТК — видимо, в расчете просто “на поговорить”, так как согласовать правки времени уже не будет.
— А правки внести, выходит, было нужно.
— Конечно. Профсоюзная сторона не поддержала проект закона, предлагая исключить откровенное замещение трудовых отношений гражданско-правовыми и в то же время оставить выбор вида договора на усмотрение его сторон. В конце концов, пусть отношения между платформенными занятыми и цифровыми платформами будут гибридными: носить гражданско-правовой характер, но предусматривать социально-трудовые гарантии и возможность объединения в профсоюзы.
Кроме того, в принятом в итоге законе закреплено много прав операторов платформ (а по-нашему, скорее, работодателей): оплачивать страховые взносы, организовывать получение дополнительного профобразования; предоставлять инструменты, материалы и спецодежду; отказывать заказчику работ, если их выполнение связано с опасностью для жизни и здоровья работника; производить оценку рисков безопасного выполнения работ. Так вот, мы настаиваем на том, что все это должно быть не правом оператора платформы, а его обязанностью.
Но все осталось как было, хотя никаких серьезных аргументов против предложений профсоюзов выдвинуто не было. Только стандартные — про рост издержек бизнеса, цены товара и инфляции. При этом совокупные издержки государства в целом в связи с хищническим потреблением трудовых ресурсов никто не считает и не задумывается об этом.
— Между тем, если не ошибаюсь, над темой платформенной экономики и занятости уже крепко задумались и на уровне СНГ, и в Международной организации труда?
— Да, и предложения ФНПР вошли в проект модельного закона Межпарламентской ассамблеи СНГ о платформенной занятости. В свою очередь, МОТ в июне опубликовала доклад “Обеспечение достойного труда в платформенной экономике”, который содержит определенные рекомендации. Но разработчики российского законопроекта не заморачивались ни научной экспертизой его концепции и понятийного аппарата, ни обзором международной практики.
На совместном заседании рабочих групп РТК я спросила, как правительство с таким регулированием планирует отчитываться перед МОТ. На помощь докладчику от Минэкономразвития, испытавшему легкое замешательство, пришел замкоординатора стороны работодателей. Который поспешил его успокоить: мол, никакие нормы МОТ на эту тему Россией не ратифицированы, отчитываться не нужно, а рекомендации на то и существуют, что соблюдать их необязательно. Как говорится, без комментариев.
— Закон приняли от первого до третьего чтения всего за двадцать дней. Чем могла быть обусловлена такая спешка?
— Могу поделиться “оригинальной” гипотезой (как говорится, не поймите меня правильно): наверное, кому-то это выгодно. Чувствуется присутствие лобби и дыхание “внутривидовой” борьбы владельцев онлайн-бизнеса. В ближайшее время увидим, кто из них явит бурный рост, а кого схарчат. Тем более что для платформ вводятся жесткие правила работы: в плане маркировки товаров, их хранения, доставки и т.д.
Но я бы лучше обратила внимание на то, что, например, правовое регулирование платформенной экономики за рубежом касается в первую очередь вопросов занятости, а у нас они не урегулированы из-за полярных позиций участников законотворческого процесса.
“ВСЕ РАВНО ПРИДЕТСЯ”
— Насколько имеющиеся противоречия непреодолимы?
— Первое. Корректировка принятого закона непременно последует после практики его применения. Второе. Обязательно последует регулирование платформенной занятости. ФНПР предлагает прописать ее особенности отдельной главой в Трудовом кодексе. Наработки для этого имеются. И третье: почему чиновники и депутаты недооценивают роль труда в экономике — это вопрос приоритетов. Защищая интересы капитала в ущерб другим факторам экономики, они создают фундамент для кризисов и противоречий в социально-трудовой сфере. Самым мягким следствием чего является дисбаланс профессионально-квалификационного состава трудоспособного населения, а это чревато стратегическим проигрышем всех нас вместе.
— Закон о платформенной экономике предписывает платформам нанимать в качестве “партнеров”-физлиц только самозанятых. Какое влияние на российскую экономику “режим самозанятых” уже успел оказать?
— Этот эксперимент, запущенный в 2018 году без учета мнения профсоюзной стороны РТК, повлек, как мы и прогнозировали, ряд негативных последствий. Это замещение трудовых отношений гражданско-правовыми, сокращение поступлений налогов в региональные бюджеты и страховых взносов в Социальный фонд, прекаризация занятости, замещение стабильной занятости “поденщиной”, фактическое упразднение охраны труда, ослабление профсоюзного движения, перетекание людских ресурсов из трудодефицитных стратегических секторов экономики в сегменты с низкой производительностью труда, не требующие квалификации и профессиональной подготовки. Притом что декларируемая цель эксперимента — легализация теневых доходов — не достигнута. Более того, налог на профессиональный доход стал для работодателей еще одним способом сэкономить на налогах.
Нужно сформировать закрытый перечень видов экономической деятельности, где можно использовать этот налоговый режим. И где нельзя — там, где явно налицо трудовые отношения. И при любом завершении эксперимента в закон о платформенной экономике придется вносить изменения, так как в нем прописан именно эксперимент, который по определению не может длиться бесконечно. Прошу заметить, что слова “самозанятость” нигде в законодательстве нет, и само явление никакого отношения к занятости не имеет.
— В Думе давно готовится законопроект о платформенной занятости, который, как ожидалось, мог стать главой в законе о платформенной экономике в целом, чего, как мы видим, не произошло. Работа над ним все еще продолжается?
— Этот закон готовился рабочей группой комитета Госдумы по труду с участием сторон РТК. Его обсуждение местами приняло форму ожесточенных споров. ФНПР предлагает установить следующие гарантии для платформенных занятых: вознаграждение за труд не ниже МРОТ; ограничение продолжительности рабочего времени; право на оплачиваемый отпуск; все виды обязательного социального, медицинского и пенсионного страхования; право на вступление в профсоюзы, проведение коллективных переговоров и заключение соглашений.
Но эти предложения не были поддержаны Минтрудом, представителями цифровых платформ и РСПП. Зато они были поддержаны Государственно-правовым управлением президента, которое еще в 2023 году разработало законопроект, где учитывалась профсоюзная позиция. Однако и он не был согласован бизнес-сообществом и играющим на его стороне Минэкономразвития. Но регулировать новые форматы занятости все равно придется, и лучше делать это через Трудовой кодекс и при обязательном согласовании с профсоюзами.
Автор: Павел Осипов
Интервью на сайте газеты «Солидарность»